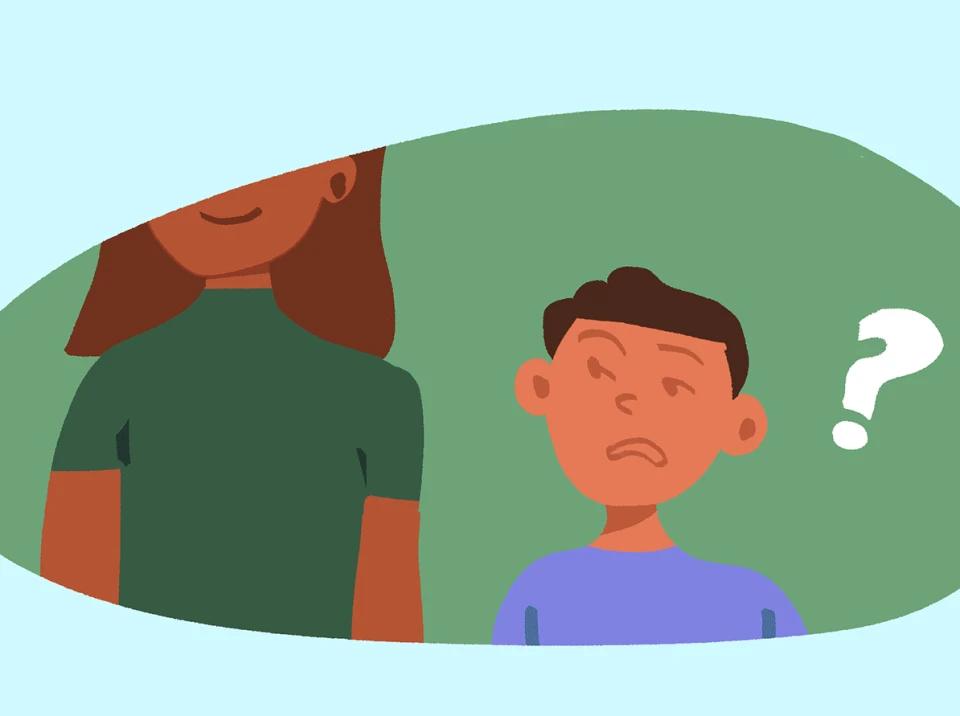По мере популяризации психотерапии в современном мире все чаще можно столкнуться с «радикальным упрощением» представлений об оной: образ психотерапевта в массовой культуре зачастую не просто образ «раненого целителя», но целителя всемогущего – с первых нот безошибочно определяющего травму пациента и настойчиво сталкивающего его с этой травмой во имя всенепременного проживания катарсиса и моментального освобождения от мучительных переживаний.
Однако, безусловно, нельзя умолять важность создания нарратива и возможности для человека, пережившего травму, не оставаться наедине с пережитым тяжелым опытом и иметь возможность получить поддержку. «Уильям Г.Нидерланд первым описал сложный клинический симптом, наблюдаемый у выживших после концлагерей и других подобных серьезных, длительных и коллективных травм, который он назвал синдромом выжившего. Значение его статьи состояло не только в описании этого синдрома, но и в том, что он нарушил всеобщее молчание вокруг Холокоста, тем самым открыв путь для переработки травмы» - пишут Тихамер Бако и Каталин Зана в своей работе «Трансгенерационная травма и терапия. Трансгенерационная атмосфера». [1, 21].
Также стоит отметить, что всё большую и большую популярность в нашем бесконечно меняющемся мире, будто находящемся в процессе перехода из зоны турбулентности в зону турбулентности стали получать работы Виктора Эмиля Франкла, основателя направления логотерапии, где он описывает свой личный опыт выживания в концентрационном лагере, работы Эдит Евы Эгер, психолога и специалиста по посттравматическому стрессовому расстройству, пережившего Холокост.
Таким образом психотерапевт, ощущающий в своей работе с пациентом присутствие некоего невыносимо тяжелого и отщепленного материала – фантома?.. Кентервильского привидения?.. порой может размышлять о необходимости настойчиво следовать за белым кроликом, то есть за травмой.
И он сам, уже будучи в роли пациента, может ощущать себя в роли Синей Бороды – одновременно осознающим и не – присутствие в своем внутрипсихическом пространстве некоей тайной комнаты с расщепленным, невыносимым для самого себя материалом - и по мере укрепления альянса со своим психотерапевтом может испытывать бессознательное чувство вины за не-приглашение оного во все зоны своего внутрипсихического мира.
На занятиях Ларисы Ивановны Фусу по Психоаналитической психосоматике обе моих ипостаси – и начинающая зарождаться психоаналитически ориентированная, и клиентско-пациентская – внезапно нашли ответы на свои невысказанные внутренние вопросы – как это часто бывает в пространстве психотерапии, через еще один вопрос, увиденный мною на презентации: «Почему Примо Леви, Бруно Бетельгейм и др., выжившие в концлагере, покончили с собой после написания книг?..».
Другой край континуума, весьма отличающийся от азартной охоты на травму из современных произведений масс-культуры – «подталкивание к рассказу о травме может привести к возвращению расщепленного».
Очень больно представить себе пациента, старательно выскребающего невыносимый для себя материал (возможно, вместе с частичками личности, как это бывает при процессе эвакуации?..) – поддавшегося искушению говорить только правду и ничего-кроме-правды и будто бы ожидающего обещанного катарсиса и улучшения жизни.
На этом занятии мне вспомнился миф о Медузе Горгоне, которой нельзя было смотреть в глаза – кажется, это могло бы быть метафорой для некоторых травм, соприкосновение с которыми может быть убийственно для пациента.
Мне хорошо запомнилась приведенная Ларисой Ивановной цитата Филиппа Жежера, повествующая об одной из супервизий у Мишеля де М’Юзана, предостерегающего его от преждевременной психизации: «Резкое возвращение расщепленного убивает того, кого не успело свести с ума».